Сагдеев Роальд Зиннурович (г.р. 1932)

Физик, специалист в области физики плазмы, гидродинамики, управляемого термоядерного синтеза, нелинейной физики и космических исследований.
Родился 26 декабря 1932 г. в Москве, где тогда учился его отец. В 1937 г. семья переехала в Казань. Там Роальд Зиннурович с серебряной медалью окончил среднюю школу № 19, после чего в 1950 г. поступил на физический факультет Московского государственного университета. Ученик Д. А. Франк-Каменецкого и Л.Д. Ландау. Учился в группе, имевшей отношение к ядерной физике, это была секретная специальность, поэтому при распределении выяснилось, что что постановлением Совмина всю группу должны были направить на новый закрытый объект на Урале (ныне – г. Снежинск). Но, благодаря просьбе Л.Д. Ландау и усилиям И.В. Курчатова назначение в Снежинск было отменено, и Роальд Зиннурович был принят в Институт атомной энергии, тогда носивший название Лаборатории измерительных приборов АН СССР. Такое решение позволило ему продолжить регулярное участие в семинарах Ландау.
Из воспоминаний Р.З. Сагдеева:
«Когда я заканчивал школу в Казани, у меня примерно в одинаковых пропорциях была любовь к математике и к физике. А мои родители были математиками, отец преподавал в вузе, мама в школе. И я колебался между выбором этих двух профессий. У меня была серебряная медаль, экзамены сдавать не нужно. Походив какое-то время вокруг МГУ, я выбрал всё-таки физфак. Начался первый семестр, и мне стало ясно, что с решением задач по курсу общей физики всё получается хорошо. Теоретические задачи давались легко, а вот лабораторные работы не очень. И я понял, что нужно выбрать путь, средний между физикой и математикой, а именно теоретическую физику. Это стало моим призванием, но, если бы это произошло сейчас, я бы, наверное, подумал — не стать ли мне биофизиком. В эту сторону перемещается всё наиболее интересное в науке».

В ИАЭ Р.З. Сагдеев вошел в состав научной группы М.А. Леонтовича, занимавшейся теорией горячей плазмы – совершенно нового состояния вещества с большим числом коллективных степеней свободы. Одна из его первых публикаций была посвящена проблеме удержания плазмы в магнитных ловушках. Стало ясным, что аномальная диффузия вовсе не обязательно достигает бомовского уровня, и что магнитное удержание плазмы имеет шансы на успех. В те же годы Роальд Зиннурович заложил основы еще двух научных направлений: физики уединенных волн (солитонов) и физики ударных волн в так называемой бесстолкновительной плазме в результате исследования им различных форм макроскопических движений плазмы в магнитном поле.
В начале 1960-х гг. Р.З. Сагдеев совместно с А.А. Веденовым и Е.П. Велиховым разработали квазилинейную теорию плазмы. Данная модель стала первым шагом к построению более полной теории, в рамках которой многочисленные ветви плазменных колебаний рассматривались как квазичастицы, способные распадаться, сливаться и рассеиваться, а также излучаться и поглощаться частицами плазмы. Эта теория получила название теории слаботурбулентной плазмы.
В 1961 г. Роальд Зиннурович был приглашен Г.И. Будкером в Институт ядерной физики только что созданного Сибирского отделения Академии наук в Новосибирске, где возглавил лабораторию теории плазмы. Его лаборатория внесла широко признанный вклад в физику плазменной турбулентности, бесстолкновительных ударных волн, процесса переноса в термоядерных установках. Во второй половине 1960-х гг. группа Р.З. Сагдеева существенно продвинула теорию аномальной диффузии, обнаружив дополнительные ветви неустойчивости и средства их стабилизации в некоторых магнитных конфигурациях. Применение квазилинейной теории позволило решить важную задачу об аномально высоком электрическом сопротивлении плазмы. В совместных работах Р.З. Сагдеева с А.А. Галеевым были указаны новые механизмы диффузии плазмы в токамаках и стеллараторах, связанные со специфической формой траекторий заряженных частиц в этих установках. В наше время данный механизм учитывается при проектировании всех новых установок для управляемого термоядерного синтеза.В 1962 г. Р.З. Сагдеев защитил в ИЯФ докторскую диссертацию на тему «Коллективные процессы и ударные волны в плазме». Оппонентами на защите были Я.Б. Зельдович, И.Е. Тамм и Ю.Б. Румер. В 1964 г. был избран членом-корреспондентом АН СССР, а в 1968 г. – академиком АН СССР (в 36 лет!).
В 1962-1965 гг. являлся деканом физического факультета Новосибирского государственного университета.
В августе 1966 г. постановлением Президиума СО АН СССР № 452 был утвержден состав Ученого совета Института с правом присуждения ученых степеней доктора и кандидата физико-математических и технических наук (впервые), Р.З Сагдеев был назначен заместителем председателя (Г.И. Будкера).

Из воспоминаний Р.З. Сагдеева:
«Внутри Института атомной энергии был замечательный отдел, которым руководил Герш Ицкович Будкер, очень интересный человек, с массой потрясающих идей. У меня сложились с ним прекрасные отношения. В 1961 году он объявил, что уезжает в Сибирь и там создаёт свой институт. Меня он позвал с собой заведовать лабораторией. Я поколебался, но потом согласился: победило чувство новизны, романтики. Я уехал туда и десять лет работал в Институте ядерной физики. Строился Академгородок, масштабы были грандиозными, потрясающими воображение. Но при этом — комары, грязь… Приходилось всё время ходить в резиновых сапогах. Нас ещё пугали энцефалитными клещами. В общем, романтики было более чем достаточно. Но и науки хватало, было очень интересно. У Будкера я тоже занимался физикой плазмы, у меня появились первые ученики, сотрудники. Постепенно начались интересные работы в космосе, запущен первый спутник. Оказалось, что Земля окружена плазмой и там происходят те самые процессы, которые я изучал много лет. И мои расчёты, сделанные для термоядерных задач, пригодились в космических исследованиях. Свои первые космические шаги я сделал в Сибири, и когда в 1971 году переехал в Москву, уже очень интересовался астрофизикой».
В 1970-х гг. интересы Р.З. Сагдеева стали смещаться в сторону космической плазмы. В 1973 г. по приглашению президента АН СССР М.В. Келдыша он стал директором Института космических исследований (ИКИ) АН СССР, которым руководил до 1988 года.
Из воспоминаний Р.З. Сагдеева:
«Воспоминания об этом периоде у меня противоречивые. Причина в том, что я практически потерял возможность заниматься своей наукой. Сравнивал себя с председателем колхоза, который отвечает за хлебопоставки. Кто-то из коллег по этому поводу заметил: «Хлебопоставки — это ещё что, ведь они актуальны только в урожай, а вот лесозаготовки, когда нужно выполнять норму каждый день…» Так же и здесь — поставки приборов на разные космические спутники, графики, да ещё вызывают в Кремль на заседание ВПК, срываются сроки и так далее. Это было тяжело. У меня произошло раздвоение личности, и нередко наступали моменты, когда я приходил к своему академическому начальству и говорил, что больше не могу, хочу уйти с поста директора ИКИ. Таких случаев было несколько на разных этапах, и мой непосредственный руководитель Александр Михайлович Прохоров, академик-секретарь отделения (я был его замом), сказал, что мне сочувствует, но сделать это непросто, система огромная, на мне колоссальная ответственность. Лишь спустя 15 лет он сказал, что сейчас настал момент, когда можно покинуть пост. Это было уже время Горбачёва. Я остался в институте главным научным сотрудником, считая, что вот теперь-то займусь наконец наукой».
В начале 1980-х гг. Р.З. Сагдеев стал «мозгом и сердцем» проекта ВЕГА. Два аппарата, ВЕГА-1 и ВЕГА-2, должны были впервые в истории провести измерения свойств кометы Галлея непосредственно в Солнечной системе. При проведении гравитационного маневра при пролете аппаратов вблизи планеты Венера (отсюда и название проекта: ВЕнера + ГАллей) предполагалось доставить в атмосферу этой планеты два аэростатных зонда для регистрации атмосферных процессов. Проект ВЕГА стал подлинным триумфом отечественной науки и международного сотрудничества: в 14 научных экспериментах участвовали ученые из 9 стран. 6 марта 1986 г. ВЕГА была первой у кометы Галлея, удалось получить информацию о размере и положении ядра кометы, а также массовые спектры ионов кометной плазмы. Кроме этого, при выполнении планетной части программы были проведены аэростатные измерения метеорологических параметров Венерианской атмосферы, которые внесли большой вклад в понимание атмосферных процессов на Венере.
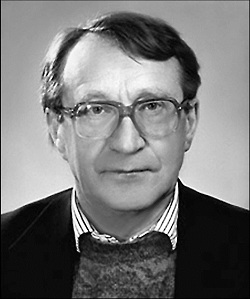
Р.З. Сагдеев был одним из инициаторов создания Международной космической станции (МКС) на основе российского модульного принципа, принимал участие в первых совместных разработках по проекту МКС.
В те же 1980-е гг. Роальд Зиннурович вернулся к задачам о соотношении хаоса и регулярных структур в турбулентности, интересовавшим его еще со времен новосибирского периода. Появилась серия публикаций (в соавторстве с Г.М. Заславским и др.), в которых была развита концепция «стохастической паутины» и регулярных структур. Указанный цикл работ содержит существенное развитие понимания хаоса.
В 1981-1987 гг. преподавал в Московском физико-техническом институте. Во время перестройки был избран в Верховный совет СССР, являлся советником Генерального секретаря ЦК КПСС М. Горбачёва по вопросам космонавтики и военных космических систем, был советником на переговорах с США на высшем уровне в Женеве (1985), Вашингтоне (1987) и Москве (1988). Однако нежелание Р.З. Сагдеева строго следовать указаниям партийных органов привело к прекращению этих отношений.
В 1989 году Р.З. Сагдеев сочетался законным браком с Сюзан Эйзенхауэр – внучкой 34-го президента США Дуарта Эйзенхауэра, дочерью генерала и дипломата Джона Эйзенхауэра.
Из воспоминаний Р.З. Сагдеева:
«Когда я познакомился с Сьюзен, то сразу понял, что она умная симпатичная женщина. Мы стали общаться, и чем дальше, тем становилось интереснее. Однажды я пригласил её на танец. Мы танцевали и говорили о гонке вооружений. Оказалось, что наши взгляды совпадают. Я влюбился, как мальчишка… Поженились мы в московском загсе № 1, отметили это дело в американском посольстве, и, хотя были гражданами очень разных государств, все вытекающие из этого проблемы казались нам надуманными и пустяковыми.
Сначала у меня не было намерения куда-либо надолго уезжать. Мы поехали в Венгрию с мыслью обосноваться там и курсировать туда-сюда. Но, живя в Будапеште, я понял, что того размаха, той настоящей научной атмосферы, к которой привык, нет. К тому же у Сьюзен трое ещё не взрослых дочерей и ей нужно быть с ними рядом. Мои дети выросли, у них уже появились свои семьи. И мы поехали в США, считая, что скоро вернёмся в СССР. Планы были именно такие. Но там я узнал от друзей, что мой отъезд очень плохо восприняло советское руководство. Как же так, человек, обременённый государственными секретами, вдруг уехал в Америку! Мне намекнули, что создана специальная комиссия по оценке параметров нанесённого мной ущерба. Если бы она пришла к выводу, что ущерб национальным интересам Советского Союза нанесён большой, со мной поступили бы так, как Сталин с Петром Леонидовичем Капицей. Он приехал на каникулы из Кембриджа, где руководил лабораторией у Резерфорда, и был лишён возможности выезжать из страны. Это было фактически заключение.
К 1991 г. у меня уже была постоянная работа, профессорская должность в Мэрилендском университете. Кафедр там как таковых нет, но профессор может иметь группу сотрудников, учеников. У меня есть ученики, в том числе и те, кто приехал отсюда. Но их немного. Конечно, такого масштаба, как было в России, уже нет. Нужна бурная административная деятельность, чтобы набрать команду единомышленников, учеников, нужен бюджет, а, чтобы получить бюджет, надо написать заявку на грант. Если речь идёт о большом гранте, надо его лоббировать. У меня нормальный грант, я даже чуть выше среднеобеспеченного американского профессора. На эти деньги я могу держать до пяти сотрудников, их вполне достаточно.
Был момент вскоре после переезда, года через два, когда мне предложили роль директора Института земного магнетизма. Это частный институт, который существует на деньги Карнеги. Вполне солидный, большой, с богатой историей, и мне это показалось интересным, я почти согласился. Уже собрали Совет директоров, объявили голосование попечителей, и вдруг я подумал: боже мой, сколько лет я был директором ИКИ, и опять вместо того, чтобы заниматься своей наукой, я буду обслуживать других… И отказался».

С 1990-х гг. он исследовал взаимодействие бесстолкновительных ударных волн с космическими лучами (совместно с М.А. Мальковым и др.). Участвовал в двух проектах НАСА, один из них – в сотрудничестве с ИКИ, фактически со своим старым коллективом. Как говорит Роальд Зиннурович, «я как свободный художник, время от времени участвую в теоретических статьях, одна из которых даже имела отношение к нанотехнологиям. Кстати, мои соавторы — разбросанные по Америке уехавшие из России учёные, все они гораздо моложе меня. Мне было с ними очень интересно поработать. В ещё одной небольшой ассоциации, где также есть выходцы из России, мы пытаемся заниматься поисками процессов во Вселенной, которые могли бы объяснить происхождение частиц самых больших энергий. Такие частицы иногда регистрируют при прохождении через атмосферу Земли, но очень редко. Их энергия выходит далеко за пределы всех мыслимых процессов такого рода. Мы пытаемся искать эти природные ускорители».
С 2015 г. Роальд Зиннурович – профессор-эмеритус Мэрилендского университета, руководит международным зум-семинаром, охватывающим широкий круг вопросов, от физики до эпидемиологии, от литературы до истории науки.
Являлся членом редакционной коллегии журнала «Письма в „Астрономический журнал“», членом главной редакционной коллегии информационных изданий ВИНИТИ, членом редакционной коллегии библиотечки «Квант» (издательство «Наука»). Его монография «Физика плазмы для физиков» (в соавторстве с Л.А. Арцимовичем) издана в СССР, США, ФРГ и других странах.
Заместитель академика-секретаря Отделения общей физики и астрономии АН СССР (1971-1990). Действительный член академии наук Татарстана, Международной академии астронавтики. Почетный член НАН США, Королевского общества Великобритании, академий наук Швеции, Франции, Венгрии, Чехословакии, Ватикана, Академии наук развивающихся стран (TWAS), Общества Макса Планка (Германия), Королевского астрономического общества (Великобритания). Почетный доктор университетов Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Мичигана (США), Тулузы (Франция), Граца (Австрия). С 1975 г. – вице-президент Международного комитета по исследованиям космического пространства (КОСПАР). Член наблюдательного совета Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.
Лауреат международных премий им. Л. Сциларда (1995), им. Дж. Максвелла (2001), им. Э. Майорана (Италия, 1993). Удостоен медали Дж. Тэйта Американского физического общества (1992).
Лауреат Ленинской премии (1984) – за создание неоклассической теории процессов переноса в тороидальной плазме. Герой Социалистического Труда (1986). Награжден орденами Ленина (1982, 1986), Октябрьской революции (1975), Трудового Красного Знамени (1967), Полярной Звезды (МНР, 1982), Звезды (Венгрия, 1988).
Р.З. Сагдеев – разносторонний человек с широким кругом интересов. Он знаток художественной и исторической литературы, понимает и любит живопись, его интересует история религий и их роль в современном обществе. Увлекается историей ислама, является автором книги на эту тему. Красной нитью в ней проходит мысль о том, что на планете сохранились ростки просвещённого ислама, а западная цивилизация может помочь исламскому миру развиваться в правильном направлении. Роальд Зиннурович всегда занимает активную позицию по острым вопросам научной политики, общественным проблемам, проблемам контроля над ядерным оружием.
Часто бывает в России, по его словам, «меня всегда тянет вернуться. Теперь для этого нет никаких политических преград. Увы, появились новые… С некоторых пор я стал пациентом онкологов, а они запрещают уезжать далеко и надолго…Но в ИКИ мне всегда рады, и теперь есть даже свой кабинет. Приятно, что, когда я приезжаю, все меня узнают, улыбаются, как будто мы только вчера расстались. Как дома, чувствую себя только здесь. А это важно — иметь дом, где тебя ждут».
